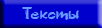« Большой человек »
воспоминания о старшем брате Олеге
От аквариума стекал вниз зеленоватый свет.
Большой аквариум опирался на крепкий металлический стол, внизу же, под ним, обитала я, маленькая-маленькая.
Я там играла, думала и сочиняла истории, я там потихоньку росла.
А над моей головой, в стянутом железным каркасом столитровом стеклянном мире, сонно покачивались водоросли, пучили глаза роскошные золотые вуалехвосты, серыми полумесяцами проплывали лунные скалярии, рыскали меченосцы, полыхали алыми хвостами гуппи, стайками шмыгали между скал крошечные неоновые рыбки, за пёструю окраску по-домашнему ласково прозванные «носочками».

Это было подводное царство, и правил в нём не бородатый Нептун, повелитель русалок, а Большой Человек - мой старший брат Олег, Алик.
Это он всякий день даровал рыбам пищу в виде крошечных красных червячков, зажигал в аквариумных небесах длинную белую лампу и включал жужжачий моторчик, оживляющий воду воздушными пузырьками.
А иногда - он отлавливал плавучих жителей своим длинным сачком, и, оторопелые, сквозь стенки стеклянных банок-ковчегов, они беззвучно наблюдали, как Большой Человек устраивает Конец Света - сливает их мир в вёдра, вынимает в таз водоросли и скалы, и уносит всё это куда-то, за пределы рыбьим умом постижимого...

Но заканчивался каждый «антипотоп» всегда по-голливудски счастливо: рыбы возвращались в аквариум, на круги своя, только не в прежнюю воду, а в обновлённую, потому что с водой этой - сплошная философия, и, как известно, нельзя дважды войти, нельзя...
Впрочем, рыбам было всё равно.
Большой Человек знал о рыбах всё - знал их загадочные имена и привычки, знал их простенькие хитрости. Одной линией он вычерчивал их текучие силуэты на листке бумаги, заплетая вокруг штрихами-венками причудливые подводные травки - так, между делом, беседуя со своими большими друзьями, смеясь да насвистывая.
А однажды он превратил в подводный мир стену своей комнаты - целую стену!
Вместо обоев на этой стене колыхалась морская вода, глубочайшая глубина, и диковинные её обитатели всеми своими хвостами, клешнями и плавниками, искусно вырезанными из бумаги и на стену наклеенными, рвались в мир неведомый - мир комнатный, человеческий.
В мир, залитый солнцем, зеленеющий по окнам цветами и кактусами, а за стёклами - раскидистыми липовыми ветками.
Здесь, в этом мире, в комнате Большого Человека, дремали на полках раковины.
Приподнимешь - шшш! - неспешная вечность дышит в самые уши.
Здесь лучились по стенам старые русские иконы, тёплые, намоленные.
Здесь лежали охапками быстрые влажные акварели и строили гримасы гипсовые африканские божки.
Здесь была и сама Нефертити, ясноликая, с неизменным кубиком на лишённой высокого царского убора прекрасной голове. Украшенная нежным свадебным веночком, слепо взирала она в будущее - и молчала себе, помалкивала...

Здесь теснились на полках разные писатели и художники, плотно-плотно, бок к боку, обложка к обложке, душа к душе. Страницы, страницы, страницы…
Страницы-мгновения, страницы-годы, страницы - жизни…
Рвались-рвались в комнату Большого Человека рыбы и раки с его настенной картины, плыли-плыли, а доплыть не могли - подводная глубина в человеческий мир не выплёскивалась, пленённая навеки магической плоскостью бумажной мозаики...
В Большом Человеке была удивительная сила - он мог переселять на холст и бумагу всё, что увидел, всё, что ему понравится - облака и птиц, травы и лица, дома, деревья, горы и долы.
А если ему становилось мало всего этого - он мог придумывать новые миры, мазками, штрихами и линиями вычленяя пространство из плоской пустоты, выращивая в нём живое и неживое, выстраивая, наполняя и населяя.
Но за пределы заколдованной плоскости ничего не выпускал...
Он мудро говорил: «Надо держать плоскость...»
Конечно, держать, конечно! - Кто знает, чего от неё ждать?
Плоская-плоская, а скольких внутрь себя увела... и не сосчитаешь.
Когда сидишь под аквариумом, и над тобой плещется целая громада водного мира, такие вещи понимаются сами собой.
Но Большой Человек - он во всём большой. Он мог колдовать и с объёмом.
Р-раз! - и смастерит из плоского картона самый настоящий дом, с крылечком, с окошками, с маленькой трубой на двускатной крыше.
Я лишь смотрела, вздыхала да ахала: в окошко глянешь - там и мебель внутри, и стоит на крошечном столе крошечный аквариум, и смотрит из него в большой мир крошечная красная нарисованная рыбка.
Мир - в мире, подобное - в подобном.
Волшебство…
Из бумаги ли, из картона; из пластика или из металлического листа - сотворит, свернёт объём, наколдует - и выходит разное, ранее небывалое.
То на толстой медной фольге чеканил он неведомые мифические изображения, подобные находкам из доисторических курганов.
То из царских серебряных рублей выковывал на маленькой наковаленке броши-заколки - цветы и фигуры, всякие затейливые фантазии, сдобренные перламутром и кораллами.
То сплетал из чернёной проволоки браслеты и ожерелья, сродни водорослям древнего моря, того самого, что каплями янтарных подвесок стекало с их затейливых завитков.
А то к Новому году Большой Человек творил из бумаги всё те же юркие рыбьи фигурки, гирляндами нанизывая их на тонкую нить. И на ёлке, в цветных огнях зелёного игольчатого царства, медленно плыли они по спирали, вверх - круг за кругом, виток за витком, к самой звёздной недосягаемой вершине.

А сам, меж тем, в красном балахоне, с красным же театральным носом и белой ватной бородой, долгим-долгим звонком звонил в нашу дверь, вспугивая тишину уставшей от обычного детского многоголосья квартиры - и входил, лукаво улыбаясь, пришаркивая-притопывая, с мешком подарков на плече:
«Кто тут Ляксандр? Кто - Олька? Кто - Ондрей! А ну-ка, пойте-пляшите, мальцы, привечайте Дедушку Мороза!»
И, шутя-балагуря, раздавал нам долгожданные подарки - от Большого Зимнего Человека.
И особенными голосами пели-поскрипывали принесённые им игрушечные шарманочки; и как заведённые носились по кругу отчаянные железные мотоциклисты; и целлулоидные куклы из его рук были волшебными…
Куклы оживали, танцевали и разговаривали, как Щелкунчик сказочного мастера Дроссельмейера.
И сейчас я понимаю, что именно тогда, меня, заядлого куклодела, на всю жизнь приворожил этот загадочный кукольный народец - то гофмановский, бунтующий, то андерсеновский, трогательный, цветной и птичий.
А когда праздники кончались, и Большой Человек снимал ватную ёлочную бороду, он возвращался в обычный мир.
Были времена - он ходил на работу, были времена - он с утра до вечера работал в своей мастерской..
Были времена - он учился в институте, были времена - он сам учил многих.
Были времена - он растил своих детей, рисовал для них картинки с гномами и русалками и сочинял забавные стишки; были времена - он уезжал к далёким северным морям.
Были времена - он пировал с друзьями; были времена - он умирал, но возвращался.
Были времена - он беседовал во снах с мудрецами и любовался древними п`агодами.
Но во все времена он читал. И писал свои книги**.

А были такие времена, когда он просто жил дома, приручал птиц и ежей, разводил хомяков и белых мышек.
Птицы летали по его комнате, расхаживали по книжным полкам; ежи спали в обувных коробках, а хомяки - всё в том же старом аквариуме, теперь похожем на руины Атлантиды: уже без рыб и без воды, с треснувшим наискось стеклом.
Потом птицы улетали в окна, ежей выпускали в лес, а хомяки, дружно выдавив битое стекло, целой семьёй бежали из своего архаического жилища, и так и не были пойманы.
Так что, до сих пор неизвестно, где их тайный лаз с высокого пятого этажа - на хомячью волюшку-волю.
Зато благодарные мышки жили тихо и мирно. Ведь это их прапрабабушка, в шляпке и пышной юбочке, в ледяные дни питерской блокады тихонько приходила к Большому Человеку, тогда совсем ещё маленькому, и он кормил её тайно припасёнными от скудного пайка хлебными крошками.

Тише мыши - кот на крыше!
Но на крыше тогда был не кот, всех котов в блокаду съели. На крыше тогда была наша мама. На город сверху падали немецкие снаряды-«зажигалки», и во время дежурства мама их тушила, бросая в бочку с водой.
Мама стояла в очередях за хлебом и на саночках возила воду из далёкой невской проруби, от самого Эрмитажа.
Она спасла, выходила старшего сына Алика, чтобы потом он вырос таким большим.

И Большой Человек вырос, и читал про мудрого Кота Мурра и Иоганесса Крейслера, слушал Вивальди и Моцарта на старых пластинках и, насвистывая, вышагивал по парковым дорожкам, затаптывая на петровском гравии горестные следы недавней войны: сам снаружи, гриновский ворон на плече, а Моцарт внутри - и поёт, поёт, как волшебная флейта…
А потом этот внутренний Моцарт тоже выплёскивался наружу, на холсты и картоны***, каскадами быстрых и сочных мазков; кружил, танцевал в пятнах света; искал звуки, как неистовый гофмановский Иоганесс Крейслер - а находил вместо них цвета и соцветия.
А большой Человек отбивал ритм то мастихином, то кисточкой, то самой большой кистью - шваброй, как он её подразнивал - и мазал, мазал красками.
С Моцартом он был на короткой ноге.
Звук и цвет - одного поля ягоды: звуки цветисты, цвета звучат.
И однажды Большой Человек просто превратил свою кисть во флейту; потом - ещё одну, ещё и ещё…
Флейты деревянные, флейты стеклянные, глиняные и тростниковые дышали на все лады, исходили тонкими, свистящими звуками. Они трепетали, вибрировали, сипели, как измученная пожизненной неотступной болезнью грудь Большого Человека.
И на их кончиках радужными пузырями трепетала, колыхалась музыка, доводя до отчаянья, до исступления старого нашего пса-боксёра. Он выл, он скулил до слёз от невозможной этой, невыразимой красоты, распирающей бессловесное собачье нутро.
А на холстах флейта-кисть выдувала то оглушительно-сияющие телеса фарфористых ню,

то переливчато-звенящие фонтаны взлетающих букетов,

то - сферические храмы с гудящими как ульи суровыми образ`ами и орг`анно-летящими небесными сводами.

Радужным пузырём трепетал цветной мир на кончике кисти Большого Человека.
А порой, по мановению его руки, мир стекал в стекло - в подвески люстр и светильников, в стеклянные фейерверки, в кристальные каскады и гейзеры.
Большой Человек творил свет.
Текла с потолков и стен стеклянная вода, круглясь то каплями, то рыбами, то медузами, ловя и повторяя каждый блик, каждый лучик.
Подводное царство, подводное царство…
И каждая капля стекла сама была как маленький аквариум.
И в каждой капле отражался целый мир.
А ведь миры и люди рождаются на грани жизни и смерти…
Однажды, попав в тоскливый питерский родильный дом, я, измученная подступающими родами, выглянула в окно, на незнакомую улицу - и увидела там его, старшего брата Олега, Большого Человека.
Он шёл мимо, невысокий, чуть ссутулившийся, с потёртой сумкой на вздёрнутом плече и с Моцартом внутри.

Он шёл - и меня не видел.
В этом не было смысла, но всё равно я беззвучно позвала его и помахала рукой.
Я беззвучно шевелила губами, как рыба за стеклом, в своём плоском аквариуме боли, на грани ещё не начавшейся жизни и ещё не отступившей смерти, и смотрела, как он идёт вдаль.
Как идёт по улице отрезанного стеклянной плоскостью, сейчас абсолютно недосягаемого для меня мира, как уходит…
А потом он свернул за угол этого мира - и исчез.
___________________________________________________________
* Эссе опубликовано как послесловие в книге Олега Зверлина «Закон кирпича» и в каталоге его работ:

* Видео: Олег в своей мастерской рассказывает о творчестве.
** Об одной из выставок и о книгах Олега.
**** Фото аквариума из блога bonoooooo на www.liveinternet.ru.
• Разрешается копировать тексты только при упоминании имени автора
и обязательной ссылке на первоисточник. •
• Любое коммерческое использование текстов - только по договорённости
с автором. •
• Размещение текстов на файлообменниках запрещено •