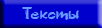« На музыку тишины »
Пьеса в двух действиях
в пространстве одной петербургской комнаты
•Текст с интернет-линками в рамках авторского проекта «Виртуальный театр»•
Д е й с т в у ю щ и е л и ц а из настоящего:
Криворучко, Глеб
Надежда – его соседка, пенсионерка
Д е й с т в у ю щ и е л и ц а из прошлого:
Вера – младшая сестра Надежды
Любовь – жена Криворучко
Клавдия
Анна (старшая) |
Лидия (младшая) | – сёстры-погодки
Софья – их мать
Алексей – их отец
Софья-девочка
Алёша-мальчик
Д е й с т в у ю щ и е л и ц а вне времени:
Грузчики (несколько человек)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Вечерние сумерки. Комната.
На задней стене – чуть прикрытая дверь в коридор;
- справа от двери, вдоль той же стены, громоздкий старинный буфет со стеклянными верхними дверцами и зеркалом в глубине открытой средней полки;
- слева от двери, неподалёку от той же стены – небольшой стол, на нём выключенная лампа с зелёным колпачком;
- в зрительный зал обращено окно.
У левой стены комнаты, почти неразличимый в сумерках, диван, чем-то заваленный.
На правой стене очень явно проступает заклеенная обоями дверь.
Всюду (в основном – в средней и левой части комнаты), в беспорядке – упакованные вещи, но не очень много: пара чемоданов, коробки, стопки книг, стул, телевизор, ещё что-то.
Криворучко, погружённый в раздумья, сидит на коробке, спиной к двери, на него спереди падает слабый свет из окна; в руках у него оранжевый, немного свалявшийся, меховой медведь; он машинально теребит медведя, поглаживает, прижимает к себе – потом внезапно бросает через плечо; не глядя, попадает прямо в дверь. Медведь отскакивает и падает на пол, дверь с лёгким скрипом открывается в тёмный коридор.
Слышно шарканье тапок, издалека – шум воды, звяканье. По коридору осторожно проходит Надежда с чайником и со свечой в стаканчике. Надежда одета просто, по-домашнему. Она скрывается из виду и почти сразу возвращается, уже без чайника, но со свечой. Останавливается у порога комнаты, переминается с ноги на ногу.
Надежда (заглядывая в дверь). Чего это вы тут сидите?
Криворучко (не сразу). Что?
Надежда. Чего это вы тут сидите, в темноте? (Пауза.) Я говорю: темно уже совсем… Хоть бы лампу зажгли... какую-нибудь...
Криворучко. Зачем?
Надежда робко встаёт на пороге.
Надежда. Да чтоб людей не пугать. Сидите так – сам в темноте, дверь настежь. Я не привыкла. В коммунальной квартире так не полагается. Уж закрылись бы…
Криворучко (рассеянно). Дверь? (Смотрит через плечо.) Да, открылась почему-то…
Надежда делает неуверенный шаг в комнату, озирается, потом светит вверх, смотрит на потолок.
Надежда. А, и вы люстрочку уже сняли! И в коридоре тьмища страшенная. Марковы сегодня днём съехали, все лампочки в коридоре повыкрутили. Я ей говорю: «Нина, обе-то не скручивай, хоть одну-то оставь... хоть здесь на углу, чтоб не спотыкаться!» А она: «Это мы их вкручивали, они ещё хорошие, зачем я буду какому-то богатею свои кровные лампочки оставлять!» А я говорю: «Мне оставь, мне! Одну хоть – мне тут ещё до завтра куковать. Я тебе взамен новую дам, целую.» А она: (с чувством) «Мне ничего чужого не надо, я не нищенка, побираться не приучена! Я свои лампы заберу, а ты, Надежда Алексанна, потом можешь хоть сто новых вкручивать!» Ну, а где мне вкручивать... с моими-то больными ногами, я и на стремянку-то влезть боюсь… Видите, какая вот она. С такой жадной попробуй, договорись…
(Пауза.)
А теперь ведь и не надо уже…
Криворучко (рассеянно). Чего... не надо?
Надежда. Договариваться – не надо, говорю. Съехали ведь они, Марковы. Совсем съехали... (Пауза.) И мы завтра – совсем… Я собиралась, собиралась, знаете – всё боялась не успеть... Так торопилась, так... ещё неделю назад всё сложила. А то говорят, если переезд сорвёшь – надо деньги платить. За каждый день платить, ужас! Вот – неделю целую живу по-походному, всё на коробках, всё на... Только одеялко себе оставила и подушку. Ещё кастрюлек, там, парочку... ну, сковородку, конечно, чайник... термос, траву заваривать... ещё продукты, да… Чашек две, тарелок... несколько, ложки, вилки... (скороговоркой) ещё и ножи, полотенца, господи… (Испуганно.) Ой, и поварёшка же моя у окна висит ! Как это я?! Забыла... Ну, это всё с утра... это завтра. По сумкам быстренько распихаю. Столько вещей, столько вещей – боже ж ты мой! Так, вроде, затолкаешь всё по шкафам – и не видно. Вроде, и нет ничего особенного, вроде, всё время чего-нибудь даже не хватает. Всё время чего-нибудь новенького хочется – знаете? – чтобы для души. Вазочку, там... или фонтанчик хорошенький, китайский… с подсветкой. А как начнёшь вынимать, как начнёшь – это туда, это сюда, это никуда не лезет вообще… и сюда его тыкнешь, и туда его тыкнешь... А выкинуть жалко – своё же, привычное… Может, такого и не будет больше. Может оно ещё и пригодится... зачем-нибудь.
(Пауза.)
А вы все уже вещички собрали?
Криворучко. Что? А, да… Все. У меня немного. Люба... она... она своё ещё тогда вывезла... ну... тогда... А у меня немного.
Надежда. Да-да, конечно, да. Завидую вам. Скажите, а я всё спросить хотела… (Делает шаг-другой, спотыкается о медведя; качнувшись, капает свечкой на руку.) Ой! Руку обожгла!
Криворучко (рассеяно). Руку? Чем?
Надежда (дуя на руку, сердито). Чем-чем! – да свечкой же… у вас тут валяется на полу чего-то.
Надежда наклоняется, поднимает медведя, проходит немного вперёд, ставит свечку на чемодан.
(С симпатией.) Мишка, надо же! Рыженький…
Криворучко. Это Любин. Забыла. А может – бросила… Не знаю.
Надежда. И у моей сестры точно такой был, вот в точности! Жёлтый только. Такой – знаете? – э-э-э... лимонный-лимонный, прямо вырви глаз... Мы в ларьке купили, под Новый год. Ходили тогда на спектакль, в Пушкинский, тридцатого декабря. Мы с ней тогда много по театрам ходили. Тогда была зима настоящая – уже сразу, в декабре, как положено. И мы после театра завернули в садик, рядышком – там был ёлочный базар: музыка играла – Карел Готт такой, помните, чешский? – Очень симпатичный, очень! Всё улыбается, улыбается, на щеках ямочки! Ну, да... улыбается… А кругом ёлки, гирлянды, лампочки... Снег идёт, люди идут, музыка... Игрушки настоящие в ларьках продаются – стеклянные. Знаете? – такие, ёлочные. Прямо за копейки, прямо – бей-не хочу... Ещё сувениры – ну так, ничего особенного, конечно: то же, что и везде. Ну, в совдепию ведь, сами знаете, какой уж там выбор... И вдруг – эти медведи! Разноцветные, такие пушистые, яркие, мягонькие – и всего-то по десять рублей. Хотя тогда десятка – это хорошие деньги были, да. Я сто двадцать рублей получала – и мне все завидовали, какая у меня работа хорошая... (Мечтательно.) Да, немецкие медведи, из ГДР…
Криворучко. ГДР больше нет.
Надежда (с обидой). Да уж, нету. (С воодушевлением.) А моя младшая сестра – она с пятьдесят шестого года – она, кстати, дружила с девочкой из ГДР. Помните? – такая дружба у пионеров была... по переписке. Вот сестра и переписывалась, марками всё менялась. Папа наш ей письма переводил, он хорошо немецкий знал. И польский тоже. Он воевал, в партизанах был, стрелял немцев... а потом – письма от них переводил. Может, он отца этой немецкой девочки сам на войне убил... а потом – письма переводил...
Криворучко. Нет, не мог он отца убить: война в сорок пятом кончилась, а сестра ваша родилась в пятьдесят... в пятьдесят каком-то...
Надежда. ...шестом...
Криворучко. Значит, и девочка немецкая примерно тогда же. Она бы не родилась, если бы ваш отец её отца...
Надежда. А-а-а, вы думаете?...ну, да, ну, да... Ну, тогда, может, не отца... тогда, может, деда... (Пауза. Мечтательно.) А мы с сестрой раньше и платья летом носили... такие, знаете, шёлковые, из синтетики. Такие хорошенькие-хорошенькие, с плиссеровочкой, с рюшечками... и тоже из ГДР. В детском магазине покупали, правда. Мы с ней обе маленькие, а на сороковой размер во взрослом ничего не купить было.
Криворучко. Да, и у меня была тогда немецкая железная дорога... Вагончики были, паровоз был... семафор... домики...
Надежда. Вот-вот! И у сестры их полно, домиков этих, она их сама всё клеила, из деталек – таких махоньких-махоньких... Купит коробку – и клеит, и клеит, сидит… и клеит… И не лень! Как маленькая, прямо... Однажды на даче клеила-клеила – и доклеилась: чайник электрический спалила! Хорошо, мамаша в городе была, мыться ездила. Пришлось бежать с утра, новую спираль покупать – ну, знаете, там внутри такая? На даче же без электрического чайника никак. Чайник песком отдраили; зять, хитренький, спираль заменил, а мамаша так ничего и не заметила. Ой, а я-то чего же? Чайник-то у меня! Я же чайник кипятила!
(Кладёт медведя на коробку, хватает свечу, делает шаг к двери.)
Вы, может, чаю хотите?
Криворучко. Что? Чаю? Не знаю...
Надежда. Чего это – «не знаю»? Я этого не понимаю. У меня и братья такие: всегда – чего ни спросишь: «не знаю». Я всегда знаю, чего хочу, чего не хочу. Как это можно – не знать? (Идёт к двери.)
Криворучко. Простите. (Пауза. В пространство, бормочет.) Я распался на какие-то части.
Надежда останавливается, прислушиваясь.
Одна моя часть сейчас собирала эти вещи, увязывала тюки, коробки. А другая какая-то часть презирала её за это... За эту возню. Что она какими-то глупостями занимается, ерундой... какими-то тряпками, коробками…
Надежда.Коробки – не ерунда, чего это вы! Какая ж это ерунда, если съезжать завтра. Агентка говорила, кто вовремя не съедет – будет этому барину новому... деньги неустойные платить. Так и сказала.
Криворучко (бормочет). А ещё одна моя часть сидит тут – и пытается вспомнить…
Надежда. А чего тут вспоминать? Бросьте вы это, ни к чему... Вспоминать потом будете, когда съедете на новое место. Прописку оформил – и сиди хоть всё время, и вспоминай, никому дела не будет. А сейчас спать надо. Завтра рано вставать, машина в десять – тяжёлый день, переезд. Ужас! Я уже вся заранее изнервничалась... Как подумаю – так сразу рука дёргается… Вот, видите? Дёргается?
Криворучко косится на неё через плечо и рассеянно кивает.
(С удовлетворением.) Дёргается. Пойду, выпью чаю – и на боковую. Вам налить?
Криворучко не отвечает.
Надежда идёт к двери, замечает на столике лампу и включает её; свет от лампы неяркий.
Надежда уходит.
Криворучко (поворачивает голову, щурится от неожиданного света и произносит, как заклинание). Я Глеб Кирилыч Криворучко, мне тридцать семь лет, от меня ушла жена. (Пауза.) Жена... Она не могла уйти сразу, вдруг. Вдруг никто не уходит. Как это так – вдруг? Что такое – вдруг, почему? Вдруг – и всё? Нет, это должно было когда-нибудь начаться... это должно было происходить как-то... постепенно. Нельзя же просто сразу встать (встаёт) – и уйти... И потом больше не вернуться... совсем…
(Ходит по комнате. Размышляет вслух.)
Как это было? Странно – я не помню, я ничего не замечал. Почему я ничего не замечал? А и замечать-то было нечего. Всё же было как всегда. День за днём, неделя за неделей. В доме была жена, была еда... я поздно приходил с работы... вот тут, вот... на буфете, на полке, лежала записка; всегда лежала... Я читал записку, я брал в холодильнике ужин, грел, нёс его сюда... Я ел... и было вкусно... Я ел и смотрел телевизор, канал «Культура»... про мумии, про вулканы... и про космос иногда... Где была жена? Жена была там (кивает на заклеенную дверь), в той комнате; жена уже спала. Или делала вид, что спит... Да, наверно так. Она притворялась, что спит, что ей рано на работу... она притворялась, что жена. А ещё учительница! Сковородку мне оставляла – а сама притворялась... А я? Кто был тогда я? Если она уже притворялась... что жена... кто же был я? Я был всё ещё муж, или муж притворившейся жены – уже и не считается... если она не жена? Выходит, я был уже не муж? Очень интересно: выходит, я тоже притворялся? И сам об этом ничего не знал... Как дурак, как клоун... Она и меня втянула в своё враньё... Она меня использовала... (Замирает.)
Надежда входит с небольшим подносом – на нём всё та же свеча, чашки, сахарница, конфеты, печенье, спички. Надежда ставит поднос на столик, осторожно отодвигая лампу; задувает свечу.
Надежда. Я и вам налила, попейте горячего, а то сидите в темноте.
Криворучко машинально берёт чашку, стоя пьёт.
Возьмите конфету... вот эту... вот, длинную – видите? – зелёную.
Криворучко жуёт конфету, берёт другую.
Надежда подвигает стул, садится сбоку, размешивает в чашке сахар, шумно пьёт чай; озирается.
А буфет-то всё стоит. Да-а-а... (Пауза.) Тут она, значит, и умерла...
Криворучко (жуя, с некоторым испугом). Кто?
Надежда. Тётка Клавдия. Моей мамаши тётка. Некровная, правда, но тётка: мамашиного дяди родная жена. И буфет этот у неё стоял, у Клавдии.
Криворучко (опускаясь рядом на что-нибудь). Я не знал. Этот буфет тут всегда стоял... сколько себя помню…
Надежда. Конечно, его ж ни в одну дверь не вытащишь.
(Подходит к буфету, осматривает его, стучит по нему.)
Да он, наверно, и не разбирается. Раньше всё ведь по-настоящему делали, кондово... Как положено... Мамаша, помню, рассказывала про этот буфет: он тут ещё от прежних хозяев, с самой с дореволюции. Тут раньше домовладелец Рыбов жил, солидный, очень богатый. И вся эта квартира была его. И весь этот дом. И ещё два дома, один на Гороховой. А тут и стату́и были, и зеркала висели, и картины... и рамы все резные... и вся ванна была в узорном кафеле – всё медузами, медузами, медузами... и ракушками... И печи везде были изразцовые, хорошие – до самого потолка. И камин такой... (показывает) с конями.
Криворучко. С какими это... конями?
Надежда. С золотыми. С крылатыми. Так мамаша рассказывала. Камин, значит, сверху полка, часы, как положено... зеркало... а по бокам, снизу – кони торчали крылатые. (Мечтательно.) И на крыло можно было вешать кочергу... Только после революции жильцы всё это разобрали и выкинули – и камин, и зеркала. И статуи. Чтобы жить не мешало. Чтобы места было больше в комнатах. Прежнее всё тогда считалось мещанством. А потом многие очень жалели, очень! – лишние метры ведь, из-за них на очередь даже не ставили... А Рыбова тут сперва уплотнили, а потом совсем в подвал выселили. Он и умер. Не привык, наверно, в подвале-то... А в моей комнатушке как раз жила его горничная, только и она сбежала за границу. Уехала, с красивым офицером. Тот был карточный игрок.
Криворучко. Надо же, как интересно! А откуда ваша мамаша всё это знает?
Надежда. Знала. Мамаша моя давно уж умерла сама. Она тут раньше проживала, в этой квартире, с самого своего детства. С младшей сестрой и с родителями. Как раз в моей комнатке.
Криворучко. Да там же тесно! Метров десять всего, наверное.
Надежда. Тринадцать, с лишком. Ничего, помещались: дед с бабушкой спали на железной кровати, моя тётка – через проход, на топчанчике. А мамаше, как старшей, стелили прямо на полу, под столом. Так и жили. Когда мамаша замуж выскочила – рано, в шестнадцать лет – они уже с папашей спали там же, на полу. А когда мой старший братик родился – его на ночь клали в железное корыто, прямо на стол. И всё на этих самых тринадцати метрах. А потом война... и мой папаша ушёл на фронт, как положено. И дед Белкин ушёл. В ополчение. Бабушка и тётка, подросток ещё, остались здесь. И мамаша с моим маленьким братиком остались. Тогда началась блокада…
Криворучко. И они жили... прямо здесь? Как это? Люди жили здесь в блокаду? Прямо вот тут? В этой самой квартире? Никогда не думал об этом… вообще в голову не приходило...
Надежда. Чего это вы? Жили, конечно, куда денешься. (Понижая голос.) И умирали прямо тут. А где ж ещё было умирать? Где прописаны. Если, конечно, дом раньше не разбомбят... (Озирается.) И, выходит, тётка Клавдия умерла как раз здесь, в этой комнате. Сейчас, когда все вещички собраны и темно... и Марковы на кухне больше не ругаются... я, знаете, это даже чувствую. Прям, до мурашек... Муж ведь у Клавдии фотограф был, Дмитрий Белкин. Деда моего – старший брат. У деда много братьев было... штуки четыре, кажется... или пять... все в войну погибли. А этот работал неподалёку – в ателье, на Литейном. Хороший был фотограф, художественный... Там, за углом, знаете?
Криворучко. Надо же, как вы хорошо помните...
Надежда. Это всё мамаша рассказывала. Но пока она была жива, я сама ничего толком не запоминала. А зачем запоминать? Ну, говорит – и ладно. Она целыми днями всё говорит, говорит себе – слушать устанешь. А потом она умерла вдруг – и всё… (Пауза.) И я прочла об этом уже после её смерти. В книге.
Криворучко. Как – в книге? В какой книге?
Надежда. В чёрной. В кожаной. Это книга моей сестры. Она писала туда много всякого. Не знаю даже, зачем. Но писала. И что мамаша рассказывала. И другое. Если вам интересно, я могу оттуда прочитать, эта книга у меня сейчас. В красной сумке на этажерочке лежит.
Криворучко кивает. Надежда зажигает свечу, выходит.
Криворучко, задумавшись, машинально включает-выключает лампу; в последний раз забывает включить.
Узкий луч лунного света падает из окна на диван.
На диване лежит Клавдия, её едва видно под ворохом одеял и шубой; голова Клавдии замотана платком поверх меховой шапки.
Клавдия (с трудом открывает глаза, говорит слабым голосом, прерывисто).
Свет... Я-я... Я жива... жива я... Свет... Какой белый, глаза режет...
(Глядит на стену.)
Деревья… вот, мостик... помню этот мостик... это Митя снимал... его фото... Там – какая красивая она... это фея… Фея Сирени... она балерина знаменитая... как же её... как... забыла... Фея… А тут – тут Павловск, тут мы с ним тогда гуляли... с Митей… долго-долго, и по дорожкам этим, по камушкам... и по мостику... Вода искрилась, слепила глаза... Там было столько улиток… после дождя… и мы через них перешагивали, перешагивали… а иногда не получалось… Это я... Летний сад... мы поженились только что... играла музыка, всё играла... мы танцевали, мы кружились – раз-два-три, раз-два-три, раз-два... И Митя тихонько напевал...
(Напевает тоненько.) «Город осенью полный, хмельной...»
(Пауза.)
Он всё хотел своим аппаратом поймать воздух. Всё говорил: воздух – это важно... воздух – это время… Если он есть на фотографии, значит, удалось остановить время... удалось сохранить время... и счастье... и наше счастье, Клавушка...
(Пауза.)
А там – там Москва. Москва теперь далеко...
(Пауза.)
Мити нет уже так давно. Мне снилось... так странно: приходили какие-то люди. Сказали: Митя замёрз. Упал, на улице лежит. Сказали: иди за ним, Клавдия. А я ответила: пойду, только не сейчас. Ещё не время идти... Полежу сперва немного, отдохну – и пойду. Нужно только повернуться на бок... сначала руку... совсем она онемела... и вот тут упереться в краешек... спустить ногу на пол... на этот жуткий пол... холодный... Нет, ни за что, нет... А надо... Хорошо бы, как во сне – скользнуть над полом, так легонечко... Там, в буфете, за левой дверцей, стоит бутыль Митина, красное вино. Отпить бы немного, чтобы тепло побежало по жилочкам, разогнало кровь... потом по лестнице, вниз, как с горочки – ух! – как в детстве, как... (улыбается) Лестница ледяная, скользкая: все носят воду – и льют, носят и льют... вода такая тяжёлая, господи... Во-да... хочется пить... Потом через двор по у-узкой тропочке, через подворотню – и на Моховую, на улицу... Улица в сугробах, улица страшная... надо идти долго... долго... карабкаться... только не смотреть по сторонам, только не смотреть, только не... потом свернуть направо – там уже близко к нему... к Мите... (Пауза.)
Но – что это я? Мысли путаются. Это же всё был сон. Мой Митя сейчас придёт... Я уже слышу его шаги... в коридоре там... Вот он споткнулся на углу, где досочка... как всегда, как всегда... Сейчас войдёт...
Клавдия закрывает глаза. Свет вокруг нее меркнет.
Из темного коридора слышен стук метронома, переходящий в звук шагов.
Шаркая тапками, входит Надежда со свечой и с черной книгой в руке.
Надежда (ставит свечу, зажигает лампу). Вот про неё, Клавдию. У меня заложено, видите (раскрывает книгу, вынимает рекламную листовку, читает) – «Пицца на дом»... Нет, не то... вот. (Садится, читает.)
«... муж её Дмитрий замёрз в блокаду прямо на улице. А тётка за ним так и не пошла. Через несколько дней она умерла в своей комнате. После её смерти нашли шестилитровую бутыль красного вина...»
Криворучко (сомнамбулически). ...в буфете за левой дверцей...
Надежда (возмущённо). Откуда вы знаете?
Криворучко. Я? Я не знаю... Это знаю не я. Во мне словно несколько разных частей... или даже – не знаю – несколько человек. Сейчас здесь как будто была Клавдия... в этой комнате... или это тоже было во мне... (смотрит в сторону тёмного дивана, испуганно) Скажите, там... там ничего нет?
Надежда со свечой подходит к дивану.
Надежда. Чего это вы? Есть, конечно. Тюк набитый есть. Шуба лежит старая. Это чья ж такая драная?
Криворучко. Не знаю. Всегда в коридоре висела, на нашей вешалке. Там, в самом углу... В детстве я в неё прятался... Завернусь в шубу – и все меня ищут, ищут...
Надежда (возмущённо задувая свечу). Так нельзя шубу хранить, так не полагается. Так – только моль в квартире разводить. (Осматривает шубу, выйдя на свет.) Вы проверяли, моли нету в ней? А то лучше выбросьте, страсть такую, на что она вам...
Криворучко. Моли? Нет, моли не видел...
Надежда. Да, беличья... Длинная... Раньше носили такие, да...
Надежда заворачивается в шубу, как маленькая, заглядывает в буфетное зеркало.
Теперь моль всё ест. Даже то, что не положено, разную синтетику. И носить-то нельзя, весь исчешешься прямо – а она ест!
(Садится в шубе на диван, отпихивая тюк.)
Ох, устали ноженьки... А вы куда едете?
Криворучко. Я? я... недалеко тут. На Баско́в переулок, в однокомнатную... с доплатой.
Надежда (с завистью). Хорошо вам, что рядышком. И место привычное, и быстро справитесь! А мне почти к самой Поклонной горе добираться. Там, правда, очень хорошо, там район зелёный. Парки большие, дворики... Я долго в тех местах жила, пока родительскую квартиру не продали. А как продали – сюда жить переехала.
(Смотрит в окно.)
Знаете, мне эту здешнюю квартиру моя мамаша раньше показывала. Мы с ней тут любили гулять вдвоём – в центре и по Моховой, пока она ещё по городу ездить могла. Мамаша всё вспоминала, вспоминала... (указывает на окно) во двор сюда заходили много раз, смотрели снизу на окна, поднимались по лестнице. Мамаша всё хотела тогда в дверь позвонить, зайти, да так и не решилась. Чего, говорит, чужих людей беспокоить, ещё выгонят... Всё равно, говорит, прошлого там уже нету... А вы как думаете?
Криворучко. Что?
Надежда. Прошлое... оно остаётся? Ну вот... в квартире этой...
Криворучко молчит.
А мы тамошнюю квартиру продали, когда мамаша умерла. И все разъехались сразу, кто куда. У братьев, у сестры – у них свои семьи. А я что? Я им не нужна. Я и перебралась сюда, на Моховую: тут как раз продавалась комната. Я и подумала: а поеду-ка туда, где родня жила – дед Белкин, бабушка Анна, мои родители. Ведь и я тут родилась в сорок третьем... только не помню ничего...
И... я вам не говорила? – домовладелец тот, Рыбов, что прежний был хозяин... Он же тоже наш родственник.
Криворучко. Нет, не говорили.
Надежда. Да, родственник. Дайте-ка книгу, там написано...
Криворучко подаёт Надежде книгу, подвигает стул, садится рядом, зажигает свечу; Надежда листает книгу, ищет, читает.
«В пятнадцать лет бабушка Анна осталась сиротой, вместе с младшей сестрой Лидией и братом Андреем. Их всех взял на воспитание родной дядя, бездетный домовладелец Рыбов...»
И вот, видите, приложена фотография... (Рассматривают фотографию.)
Свет вокруг Надежды и Криворучко притушается.
Справа высвечивается пространство возле буфета.
Из прошлого появляются юные Анна и Лидия: Анна – с корзинкой для рукоделия, Лидия – принаряженная, оживлённая; идут к буфету.
Лидия открывает вверху стеклянную дверцу, достаёт из буфета жестянку с конфетами.
Анна (ставит корзинку на буфетную полку и осматривает платье Лидии). Красиво сшили, тебе к лицу! Но как же это коротко, Лиданька!
Лидия. Ерунда! В Париже носят куда короче! Только дядя бы мне не позволил...
Анна (выбирая конфету). С кем ты сегодня идёшь?
Лидия (чуть присев, поправляет причёску перед буфетным зеркалом). С Сержем Рудницким. Он в меня влюблён по уши.
Анна. Он же дурак. (Жуёт конфету.)
Лидия. Ну и что? Зато – какой красавчик! И танцует превосходно. А как поёт! Все мои подружки завидуют. С таким нигде показаться не стыдно. Не то, что с твоим Белкиным.
Анна. Белкин – хороший человек. Добрый, весёлый. И любит меня так... так... насмерть! И я его – насмерть...
Лидия. Погоди, дядя узнает! Нет, ты, по-моему, сошла с ума, Анечка! Он же совсем бедный, из простых.
Анна (выбирая конфету). Мы тоже – не дворяне, Лиданька. (Жуёт конфету.) Подумаешь, фамилия – Черевко! Если бы папа не погиб на этой войне и не умерла мама... (обе мгновение молчат) неизвестно, как бы мы теперь жили. Наш папа был не из богатых...
Лидия. Всё равно – он был военный. И с прекрасным образованием! Мы из приличной семьи, Анечка. Дворяне – не дворяне... теперь это неважно: теперь важен капитал и хорошее воспитание. (Выбирая конфету.) А твой Белкин даже вилку правильно держать не умеет! (Жуёт конфету.)
Анна. Ты что, проверяла?
Лидия. Не умеет, не умеет! Мне и проверять не надо, господи! Посмотри, где он живёт – в каком-то подвале на Лиговке, братьев целая толпа, сестёр... Голодранцы!
Анна. Сестра у него одна. И очень милая. Хочет стать маникюршей.
Лидия. Это неважно! Анечка, милая, опомнись! Дядя прогонит тебя, денег не даст! Не пойдёшь же ты жить в подвал, к этому Белкину? Там наверно, грязно, холодно, крысы – бр-р-р! Ты училась в хорошей гимназии, а у твоего Белкина – дай бог, три класса церковно-приходской школы! (Хихикает.)
Анна. Не правда, Лиданька! Он начитанный человек, Пушкина, Лермонтова на память знает. И даже Блока. Стихи о Прекрасной Даме...
Лидия. Блока?! Он?! Господи, откуда?
Анна. Он в типографии работает, наборщиком. Пока работает, читает много...
Лидия. Надо же!
С улицы слышен автомобильный гудок.
Ой! Это Серж! (Выглядывает в окно.) Он в авто!
(Достаёт из бальной сумочки жемчужное ожерелье.)
Скорее, Аня – помоги застегнуть!
Анна. Это же тётин жемчуг! Как он у тебя...
Лидия (прижимая палец к губам). Т-с-с! Я стащила... (Любуется на себя, потом прикрывает ожерелье шёлковым шарфиком.) Никому не говори, тогда и я не скажу дяде про твоего Белкина.
Анна. А я не боюсь. Мы всё равно пожениться решили.
Лидия. Зря не боишься! (С интересом.) Тайком венчаться будете, да? Как у Пушкина? В «Повестях Белкина», «Метель», помнишь? Такая прелесть!
Анна (грустно). Нет, венчаться не будем, Лиданька. Белкин… он в бога не верит. Совсем не верит... он верит только в свою революцию.
Лидия. Не будете венчаться? Кошмар! А наш Андрюша этих всех революционеров терпеть не может.
(Делает шаг к двери, потом возвращается и выбирает конфету.)
Узнает он про твоего Белкина, подговорит своих однокашников – и они устроят ему «тёмную», вот увидишь!
(Жуёт конфету.)
Анна. За что? Как это гадко, Лида! Андрюша совсем ещё мальчик, глупый, ничего в жизни не понимает. К тому же – вот бесёнок! – опять давеча дядиным гостям дохлых мышей подложил в калоши.
Смотрят друг на дружку – и прыскают.
И где он их только берёт, не понимаю...
Лидия (смеясь). Он их у Василия крадёт, в дворницкой. У Василия мышеловки и в дворницкой, и в подвале – я видела. Андрюша такой проказник!
Анна. Погоди, дядя ему покажет, как проказничать... Дядя про папиросы ничего не знает. И он ещё ту историю с зеркалом тёти Ксении не забыл. Помнишь – гадальную? С чёртом? (Смеются.) А Белкин никому не желает зла. (Выбирая конфету.) Он говорит, что не должно быть ни бедных, ни богатых – все равны... И все счастливы. (Жуёт конфету.)
Лидия. Кошмар... Дядя тебя, конечно, выгонит. Но это так романтично!
Слышен далёкий звонок в дверь.
Это Рудницкий! Я побежала! (Целует сестру в щёку.) А ты чем заниматься будешь?
Анна. Я? Я сяду вязать... Вот – шарф к Рождеству, для Белкина. Ещё хотела варежки связать, да боюсь не успеть: уже ноябрь кончается...
Лидия. Да... Рождество скоро. Ёлка, потом новый год... Надо же девятьсот семнадцатый! Ну, не скучай. Удачи тебе, вязальщица!
Анна. И тебе повеселиться, Лиданька!
Лидия. Да уж! Повеселюсь! А ты будь умницей и прилежно вяжи сети для своего Белкина. Ну вот, теперь пить хочется… (Идёт к двери.) Помнишь, того противного Базарова? Ну, у Тургенева? Бр-р-р...
Анна. Погоди! Ты мне напомнила... Упроси Рудницкого – пусть сейчас споёт тот романс... Ну, тот, осенний... помнишь? (Просительно.) Пожалуйста! Ну, хоть немножечко!
Лидия. Мы торопимся... (Лукаво смотрит на Анну.) Ладно, уж!
Лидия выходит. В коридоре голоса, смех, шаги, шорох платья; потом звуки фортепьяно и мужского голоса – звучит романс.
Анна стоит в дверях, спиной к дверному косяку, слушает.
Музыка стихает, хлопает далёкая дверь.
Анна смотрит в окно, машет; со двора слышен звук отъезжающего авто.
Анна выходит. Свет возле буфета меркнет.
Свет возле Надежды и Криворучко разгорается.
Надежда (читает). «...и тогда бабушка Анна, наперекор семье, вышла замуж за типографского рабочего Белкина. Они жили очень бедно. А потом, когда случилась революция, Белкин занял ответственный пост, и вся бабушкина родня ходила к нему кланяться, чтоб замолвил за них словечко, потому что боялись, что их арестуют. У Белкиных родились две дочери, наша мама и наша тётя. Дедушка много работал, но был очень честный, и они жили всё так же бедно...»
Криворучко. И они что... тоже жили тут?
Надежда. Ну да. После революции здесь же стала простая коммуналка...
Криворучко. Здесь жило столько разных людей... Чужих, незнакомых... Прямо вот здесь, вот… Ходили, спали, о чём-то думали…
Надежда. И все они умерли, все... Ничего не осталось. И от нас не останется ничего. Вот так – живёшь, живёшь, мучаешься… всё ждёшь чего-то… и зачем только... (Пауза.) Схожу-ка я за поварёшкой своей, пока не забыла...
Надежда медленно встаёт, сбрасывая шубу; берёт свечу; выходит.
Криворучко листает чёрную книгу, читает про себя.
Свет вновь перемещается к буфету.
Из прошлого входят Анна и Лидия, повзрослевшие; обе кутаются в пуховые платки.
Анна. Дядя нынче дал мне ржаной муки и гороха. Только бы Белкин не узнал! Он непременно рассердится...
Лидия. Чего сердиться? Девочки маленькие, растут. Им нужно есть. Надо же, теперь две девочки у тебя, погодки – совсем, как мы с тобой...
Лидия открывает буфет, достаёт аптечную бутылку и свёрточек.
Вот возьми, это им от меня – масло и немного сахара.
Анна (разворачивая). Господи, сахар, настоящий... И масло... Откуда?
Лидия. От моего Эдуарда, из аптеки... (хихикает) только – касторовое. Ты же знаешь, что я теперь в аптеке работаю? Оказывается, и на касторовом можно отлично жарить...
Анна. А ему не попадёт за это?
Лидия. Эдуарду? Ему? Не смеши меня, Анечка! Он не такой дурак, каким был этот Серёжка Рудницкий... Дурак, дурак! Надо же – полезть в драку с пьяными матросами! Жалко так его, дурачка... (Пауза.) Так жалко его, Анечка... (Плачет.) Так жалко... И нас всех... (Плачет, сестра обнимает её. Сквозь слёзы.) А Эдуард, он... он серьёзный. Он приторговывает потихонечку красным стрептоцидом... уходит влёт – теперь модно красить им волосы. Я тоже хотела покраситься... (всхлипывая) но Эдуард не позволяет. Он такой строгий, у него – знаешь... у него принципы... (Кокетливо, отстраняясь и успокаиваясь.) Он не хочет, чтобы на меня другие обращали внимание. И юбку велит носить длинную, вот такую... благо они опять в моде. Жуткий ревнивец! Зато – при деньгах. (Шёпотом.) Он приторговывает из аптеки не только стрептоцидом! Понимаешь? И тоже идёт влёт!
Анна. Неужели этим... этим ужасным снадобьем?
Лидия. Т-с-с! Дядя не знает. Эдуард только торгует, он сам – ни-ни! У него принципы. (Пауза.) Только не проболтайся своему Белкину!
Анна. Но это... это нехорошо... И так опасно, господи, Лиданька...
Лидия. Ерунда! Нам деньги нужны. Мы собираемся пожениться и уехать к нему, в Эстонию. Эстония – это почти Европа. Говорят, в Европе женщины уже носят брюки, словно мужчины.
Анна. Кошмар...
Лидия (язвительно). Так что – твой Белкин может радоваться: теперь уж все равны... хотя бы в одежде. (Пауза. Серьёзно.) Анечка, ты здесь без меня присмотришь за дядей? Я бы взяла его с собой, но Эдуард, понимаешь... Присмотришь?
Анна. Да. (Виновато.) Белкин сказал – дядю могут совсем выселить. Мне так страшно. Мы ведь потому только въехали сюда... ну, чтоб не чужие люди в квартире... И ещё родня Белкина – тоже поэтому... Понимаешь?
(Пауза.)
Лидия. Мы уедем в Эстонию, да. (Обнимая сестру.) После того, что натворили здесь дружки твоего Белкина, дальше оставаться в Петрограде нельзя. Нельзя... Просто невозможно... Теперь и здесь все равны, Анечка – теперь здесь всем очень плохо... очень...
Обе выходят, обнявшись.
Криворучко поднимает голову.
Криворучко (глядя им вслед, тихо). Значит, может быть так... когда плохо сразу всем?
Надежда (входя, с поварёшкой под мышкой и свечой). Чего это вы? Кому плохо?
Криворучко. Нет, это я так... Это просто мысли... мысли бродят... тут.
Надежда. От мыслей один вред.
Надежда задувает свечу; продолжая говорить, кладёт поварёшку на чайный поднос; забирает у Криворучко книгу, садится.
Дядя мой всегда говорил – они только мозг сушат. Люди от них болеют и рано умирают. Дядя мой всю свою жизнь копается в огороде – и всё как огурчик: здоровый и румянец во всю щёку! И никаких мыслей. Только скучный, нудный даже – никто его не любит. И тётка на него всю жизнь ругается – пилит-пилит, пилит-пилит... И чего пилит? Хороший человек, хозяйственный: дачку ей построил, баньку приладил... садик-огородик развёл, грибы сушит... в магазин ей ходит, в аптеку ходит, везде ходит... Наших, бывало, не допросишься: «Саша, сходи в магазин.» – «Тебе надо, сама и иди!» А чего это «мне надо»? Мне ничего не надо. Мясо – им, крупа – им, картошка – им, хлеб, овощи... Не натаскаешься. Я и не ем ничего почти, с моим-то здоровьем... Правильно говорят: «кто везёт, на том и едут»... Нет, хорошо, что я теперь одна живу, сама себе хозяйка... (Продолжает говорить, жестикулируя, но звук её голоса слабеет для ушедшего в себя Криворучко.) Я вот в самом конце блокады родилась – и что? И ничего. Блокадным ребенком меня не признали, льгот никаких. Прибавки к пенсии не дали... Я везде жаловалась – писала-писала, писала-писала... В ответ – одни обещания... Я ведь чудом выжила, такая слабенькая, меня мать в самый голод в себе вынашивала, отца вспоминала, думала – уж не увидит его никогда... А он и приезжал-то к ней с фронта на денёк всего. И как только прорвался в Ленинград? По Ладоге-то, по льду? Дед Белкин вот не вернулся. А я же самый настоящий блокадный ребенок, здоровья совсем нет, все деньги уходят на лекарства, а толку-то от них – все болит, все... И все ходишь по аптекам, по магазинам, ходишь, таскаешь сумки...
Криворучко (про себя). А я не ходил в магазин. Может, в этом всё дело? Она сама ходила в магазин. В аптеку, в сберкассу, на почту... Да, но я работал допоздна. Я деньги зарабатывал, хотели квартиру купить... И она работала... в своей школе. Хотя получала гораздо меньше... Денег получала меньше, но ведь уставала, наверное... Дети – они шумят, они курят... Конечно, уставала. Потом – по магазинам. Ещё – готовила, ну да... и я ел. Она так вкусно готовила... Да, да в этом всё дело, конечно: она уставала... Я же говорил ей: не работай, брось ты эту тупую школу, моих денег нам хватит! А она не слушалась. (Пауза.) И ещё она стирала. Стирать очень противно, лучше всё выбрасывать сразу... И покупать новое.
Надежда (внезапно прислушавшись). Чего это вы? С ума сошли? Как это – выбрасывать? Всё же деньги стоит! Не навыбрасываешься! Пока денег скопишь, пока найдёшь, чтоб подошло... и по цене тоже... все ноги истопчешь... А ведь могут и подсунуть дрянь какую-нибудь! Купишь сапог – сапог как сапог с виду. Походишь день-другой – бац! Подмётка пополам треснула. И ходи, и доказывай потом, что не ломал, что ножиком не кромсал... Нет, я вещи очень берегу! И вот мамаша моя – тоже берегла... очень любила ходить дома в старых платьях, затёртых. Это у неё от бабушки Анны: та вечно пришивала заплаты на грудь и на живот... Там, где платье протирается – очень полная была. А у самой новых целый шкаф висел – шёлковых, настоящих. Крепдешиновых – и с цветочками. А она всё ходила в рваных, всё лежала на диване и плакала. А дедушка Белкин – тот был ходок. Любил вино, любил пиво. Ещё любил по соседкам расхаживать, чаи распивать. Бабушка страшно ревновала – места себе не находила: ждала его, плакала, в бинокль смотрела...
Криворучко. В какой бинокль?
Надежда. В военный, старый, дедовский. Спрячется за занавеску – и смотрит в окошко, как он у соседки, напротив, чай пьёт. Вот сюда, к Клавдии приходила, к этому самому окну. Наше-то окно раньше в стенку упиралось, пока соседний дом не снесли. И вот так она, бывало, смотрит-смотрит... А когда дедушка возвращался – она доставала из аптечки склянку с надписью «Яд» – знаете, так, с твёрдым знаком, по-старинному? – «Ядъ»! И бежала на чердак, травиться. Дедушка бежал за ней, девчонки маленькие пугались, голосили... Потом все мирились, пили чай и ложились спать... А в блокаду (тычет в книгу) – вот я тут читала – бабушка так исхудала, что вся кожа на ней висела складками. Мамаша её мыла в том жестяном корыте... ну, где братик спал; думала – не выживет. Бабушка всё лежала на кровати, и тётка лежала... А мамаша вещи меняла на хлеб... и эти платья, шёлковые, с цветочками... ходила отоваривать карточки, топила буржуйку, всем, чем придётся – досками какими... мебелью, книгами... из разбомблённых домов. Возила на саночках воду с Невы – из проруби, от самого Эрмитажа... Это ж так далеко, господи, так далеко... Пока дойдёшь по колдобинам... Да ещё бомбёжки... И бабушка выжила. И братик маленький выжил, и тётка... Один дед Белкин так и не вернулся с Ладоги... Остался там. Многие там остались тогда, подо льдом... А после войны бабушка Анна располнела опять, и опять ходила в платьях с заплатками, пока не умерла. Пошила себе в ателье два новых пальто, хороших таких... демисезонное и ещё на зиму, с каракулем; в шкаф повесила, как положено – и сразу умерла. Мамаша потом эти пальто на себя перешивала. И боялась дома одна бывать: ей чудилось, что бабушка на кухне ходит и гремит кастрюлями. И мамаша тоже потом носила дома всякое старьё. Я ей говорю: новое носи, вон, сколько куплено, чего опять надела эту рвань? Она говорит: жалко! Новые – это на выход. А сама не выходила никуда, сидела всё на балконе – и летом, и зимой. (Пауза.) И я буду.
В моей квартире новой хорошая лоджия. Это лучше, чем балкон: дует гораздо меньше. Разведу там цветочки, буду сидеть, смотреть, как люди ходят, как машины внизу ездиют... Там зелёный район – всё деревья, деревья, газончики... Можно даже представить, что ты на даче... (Пауза.) Что-то разболталась я...
(Встаёт с книгой в руке.)
Пойду-ка спать, пожалуй.
Надежда подходит к буфету, открывает левую нижнюю дверцу, заглядывает внутрь.
А пила б потихоньку вино – глядишь, и выжила б она... Клавдия...
Подойдя к столику, Надежда зажигает свечу, ставит её на поднос с чашками и выходит с подносом, забыв книгу.
В окно светит луна. Свет усиливается.
Из прошлого вбегает располневшая Анна – растрёпанная, с биноклем в руке. Следом – совсем ещё молоденькая Клавдия.
Клавдия. Аня, Аня! Ну, не надо! Ну, не смотри ты! Это же глупо... Ты опять расстроишься, расплачешься...
Анна. Нет, Клавушка! Я не буду сегодня плакать. Я только одним глазком. Мне нужно знать, понимаешь… А то я с ума сойду… от неизвестности…(Смотрит в окно, в бинокль.)
Клавдия. Ну, что там знать. Ну, пошёл, ну – в гости, к соседке. Как всегда...
Анна (не отрываясь от окна). К чужим соседкам без жены в гости не ходят. Твой ведь Митя не ходит? Нет, ну ты смотри...
Клавдия. Ну, он же сказал – это по работе. Ты сама говорила.
Анна. Это что – работа такая: чай с Лариской-секретаршей пить? А Лариска-то, вертихвостка! Разоделась, напомадилась… щёки красные, глазки бегают... Вот, вот – сама погляди!
Анна передаёт Клавдии бинокль, Клавдия смотрит, машет рукой, быстро возвращает бинокль.
Клавдия. Да ну их, забудь! Ничего особенного. Посмотри лучше, какая сегодня луна! Золотая...
Анна. Луна? Какая луна, глупости? Господи, говорила мне сестра, говорила... Вот твой Митя не такой, хоть и родной ему брат... С работы – всегда прямо домой... И никакой луны... (Плачет у Клавдии на плече.) Я же из-за него с родным дядей поссорилась, из дому ушла. Всё-всё бросила. Мы ведь любили друг друга. Очень любили… Я думала – мы будем так счастливы! Куда всё это делось? Мы столько бедствовали… Да и сейчас… Ушла бы от него, давно бы ушла! Если б не девочки... Да и куда…
Клавдия. Ну-ну, пойдём... Там девочки одни, перепугаются.
Клавдия гладит её по спине и уводит.
Криворучко (вынимает из кармана смятую записку). Ушла... Все свои вещи вывезла. Тайком, потихоньку, пока я на работе был... Оставила записку только. (Не глядя на записку.) «Ухожу. Не ищи меня пока. Любовь».
(Подходит к дивану, набрасывает на себя шубу, садится. Бормочет.)
Ухожу... Любовь... Ухожу... Куда?
(Пауза. Смотрит в окно.)
Луна... «Моя любовь на пятом этаже... почти, где луна...»
Криворучко закрывает глаза.
Cлышится негромкая музыка – песня «Моя любовь на пятом этаже».
Свет меркнет.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Та же комната.
Криворучко, в полутьме, так же сидит на диване с закрытыми глазами.
Собранные вещи всё так же в беспорядке расставлены по комнате.
Дверь в коридор открыта, из прошлого входит Любовь с подносом мытой посуды; чуть прикрыв дверь ногой, ставит поднос на буфетную полку и начинает убирать посуду в буфет.
Любовь (напевает). Моя любовь на пятом этаже, почти, где луна… Моя любовь, наверно спит уже… (Мурлычет мелодию.)
Слышен далёкий звонок, стук входной двери, голоса, приближающиеся шаги.
В дверь заглядывает Вера – в расстёгнутом плаще и шлёпанцах, тихонько стучит по открытой дверной створке.
Вера. Извините... Здесь есть кто-нибудь?
Любовь (выглядывая из-за буфетной дверцы). Да-да... Вы ко мне?
Вера. Извините... Я к вашей соседке пришла, Надежде Александровне. А её дома нет. Там какая-то шумная женщина... Она сказала, что не справочное бюро и не нанималась всем справки выдавать... И к вам послала. Вы не знаете, куда Надежда вышла?
Любовь (растерянно). Не знаю... В аптеку, кажется... Она утром на кухне говорила что-то... Но Марковы так шумели, что я плохо расслышала.
Вера (огорчённо). Жаль. Я так редко к ней выбираюсь... А тут по делам случайно оказалась рядышком, вот и решила зайти... (Вздыхает.) Что ж, пойду, пожалуй... (Собирается уйти, но тут её взгляд падает на буфет; она просовывает голову в комнату.) Простите... А можно взглянуть? Я всего на минуточку... Такая мебелина любопытная... Не бойтесь, я не натопчу – мне там выдали... что-то вроде тапочек...
Любовь. Конечно – входите, пожалуйста...
Вера (входит, всё время теряя шлёпанцы). Люблю старые вещи рассматривать. Иногда, знаете, от этого совсем неожиданные мысли в голове проскальзывают...
Любовь (заинтересованно). Мысли? Какие?
Вера (любуясь буфетом). Да так... Трудно объяснить. Точно воспоминания о чём-то... Чего с тобой никогда и не было – а помнишь. Звуки, цвета, голоса... и свет... (Пауза.) Какая громадина! Он точно гора... Или даже целый город... Город прямо в комнате.
Любовь. Да уж, громадина. Хорошо, что сама комната большая. Это от родителей мужа наследство... Хотя... что-то, я помню, Глеб рассказывал... Кажется, этот буфет вместе с комнатой им достался. (Смотрит на буфет.) Глупо, наверно, но меня он немного пугает.
Вера. Пугает? Как интересно... Знаете, у моей тётки был старый шкаф, резной... Тоже большой, старинный... Я в детстве его боялась ужасно! И ещё – в прихожей такое странное, очень странное, мутное зеркало – до самого потолка... Когда никого рядом не было, я подкрадывалась на цыпочках – и заглядывала... Даже теперь, если там бываю, сердце ёкает... (Смеётся.) Мне казалось, в том шкафу кто-то живёт. Мне и сейчас так кажется... (Делает шаг в сторону, опять теряет тапок.)
Любовь (заинтересованно). Интересно... (Подвигает стул.) Да вы присядьте...
Вера садится на стул, вполоборота к буфету.
Вера. Спасибо. Знаете, мне рассказывали: в старых вещах бывают скрытые отделения... Тайнички такие, потайные ящички. Мебельные мастера их специально делали. Ну, для денег, для драгоценностей. Для сокровенных писем... любовных каких-нибудь... В шкафах, в комодах, в секретерах.
Любовь. Поразительно! Никогда об этом не слышала! Так вы думаете, и здесь тайник может быть?
Вера. А вы не находили?
Любовь. Нет... Я и не искала... (Заговорщически.) А давайте – поищем? Прямо сейчас?
Вера. Это было бы здорово!
Вера вскакивает со стула, скидывает шлёпанцы, сбрасывает плащ на спинку.
Любовь садится на корточки, распахивает нижние дверцы, вынимает на пол фарфоровые миски, коробки. Вера начинает ей помогать – они выдвигают и задвигают ящики, простукивают буфетные стенки. Осматривая открытую полку, Вера заглядывает в зеркало; потом медленно проводит по его рамке рукой, нажимает на угловой выступ – и зеркальная дверка откидывается.
Есть! Боже! Как это?
Любовь. Ой! Вы, что, знали?
Вера. Нет, ну что вы! Я же здесь первый раз... Как-то само... само вдруг нажалось...
Любовь. С ума сойти! Никогда бы не подумала... Прямо не верится. Что там?
Вера (вынимает из тайничка несколько писем, перевязанных ленточкой). Смотрите – здесь письма лежат... Ещё тетрадка старинная...
(Достаёт из тайника дневник в тиснёном кожаном переплёте.) И коробочка...
(Передаёт коробочку Любови.) Вот.
Любовь (открывая коробочку). Что там? Ой, колечко...
Вера. Ага, на ленточке... Совсем ведь крошечное... Может, детское? Медальон... (Открывает медальон.) Смотрите, в нём прядка волос! И фотография...
Любовь. Какой красивый офицер... Вот в такого точно можно влюбиться...
Вера. Да, удивительное лицо, необыкновенное... (Читает надпись на медальоне.) «Тебе, сердце моё! Алёша. Санкт-Петербург, 1914 год».
Любовь (задумчиво). Чьи-то самые большие сокровища... (Берёт в руки дневник.) А давайте прочтём?
Вера. Как-то неловко... Вы ничего об этом не знаете?
Любовь. Нет... Я ведь тут недавно живу... около семи лет. Когда замуж вышла, сменялась сюда, к мужу. Мы всё собираемся квартиру купить. Вас как зовут?
Вера. Вера. Я сестра Надежды Александровны.
Любовь. А я – Любовь. Муж мой, Глеб, правда, в шутку называет Любэ.
Вера. Любовь... Как красиво! Теперь Любовь редко встретишь, очень редко. Теперь так не называют... (Смотрит на дневник.) И всё-таки – нехорошо чужое читать... Словно подсматриваешь.
Любовь. Но иначе мы же ничего не узнаем! Те, кто писал, давно умерли... им уж всё равно...
Вера (осматриваясь). Знаете, а в этой квартире ведь мои предки жили... Очень-очень давно. И даже в этой самой комнате... Только от них не осталось ничего... Хотя, возможно, этот буфет...
Любовь. Тем более! – значит, вы имеете полное право! (Открывает дневник наугад, протягивает Вере.) Читайте вы!
Вера подвигает стул к буфету, садится, берёт в руки дневник.
Любовь, прислоняясь к буфету, встаёт у неё за спиной.
Вера (читает). «Двадцатое октября, год девятьсот четырнадцатый... Я знаю: нам выпало слишком много счастья, слишком! Это должно было когда-нибудь кончиться... Так бывает – если слишком много солнца – обязательно разболится голова...»
Любовь и Вера застывают, точно к чему-то прислушиваясь.
В коридоре слышны шаги. Свет возле буфета меркнет.
Криворучко открывает глаза.
Входит Надежда – в халате, со свечой.
Надежда. Я смотрю, у вас всё свет горит. А я ведь у вас книгу свою забыла. (Берёт со столика книгу, потом кладет ее обратно.) Не спите?
Криворучко. Немного подремал... (глядя в сторону буфета) ...кажется...
Надежда. А мне не уснуть – всё вертелась, вертелась, думала... как это завтра всё пройдёт... Мне сестра придёт помогать. А вам?
Криворучко. Мне? Мне помощь не нужна. Будут ведь грузчики.
Надежда. Ага! Как думаете, давать им на водку – или не надо теперь? В совдепию всегда на водку полагалось...
Криворучко. Я не думал об этом... Ну, дайте.
Надежда. Жалко! И так столько уже заплачено! Ужас...
Криворучко. Тогда – не давайте.
Надежда. Ох, вроде – неудобно. Подумают: жадная...
(Думает. Оба молчат.)
Сестру спрошу.
Надежда задувает свечу, подходит к дивану, Криворучко уступает ей место, сам садится на коробку.
А вам жалко, наверно, отсюда уезжать? Ведь всю жизнь тут прожили...
Криворучко. Ну, ещё не всю...
Надежда. А мне жалко... Думала – уж и помру здесь. Где все.
Криворучко. Так зачем едете?
Надежда. Да как тут останешься? Остальные ведь уже съехали. Все съехали. Меня бы этот богатей со свету сжил, чего я у него под ногами буду путаться... Одинокая старуха, а ему эта квартира нужна... Теперь ради квартиры запросто и убить могут... Никто и разбираться не станет. Нет, уж – уеду лучше, от греха... Там хоть лоджия...
Криворучко. Скажите... ваша сестра... та, что записывала. Она бывала здесь?
Надежда. Ну да, пару раз заходила... Все они вечно заняты... А так всё больше я к ней в гости ездила... А вы чего это спрашиваете?
Криворучко. Так... Я сейчас видел странный сон... Будто бы и не сон... И словно это было здесь…
Надежда. Сны все странные. Я однажды во сне даже луну видела. Висит так в окне, в кухонном, огромная, во всё окно... и с лицом – представляете? Страшно... Не знаете, к чему это?
Криворучко. К полнолунию.
Надежда. Смеётесь! А, по-моему – страшно. На небе луна – и с лицом! И вниз смотрит... Мой прапрадедушка был лунатик. А ещё он сапожник был. И в полнолуние вылезал на крышу, на самый конёк. Сядет – и будто сапог молотком колотит. Колотит – а сам спит... (Ёжится.) И ему ставили возле кровати таз с водой. Говорят, когда спящий ноги спустит в воду – он сразу просыпается. (Пауза.) А вы, раз уж не спите, ввернули бы лампочку в коридор? А? Тут, на углу... А лучше – обе. А то грузчики придут, ругаться будут – темно ведь, не видно ни черта...
Криворучко (вставая). Да-да, конечно...
Надежда зажигает свечу; выходят.
Свет возле буфета разгорается.
Вера (читает из дневника). «...война – это что-то непонятное. Я пытаюсь представить: люди, сразу – очень много людей, целые толпы...»
За порогом комнаты появляется С о ф ь я .
Софья (в пространство). ...очень много людей, целые толпы... Все чужие, никто никого не знает... У каждого дома остались родные, близкие. Остались дети, жена... или невеста... или просто мечта... Как это выходит? Почему? Кто-то живёт, ходит на службу, гуляет, слушает музыку, кого-то любит. И вдруг ему говорят: «Война!» И он одевается, оставляет всё... едет куда-то... заряжает ружьё... И другие тоже заряжают ружья... И вдруг все стреляют друг в друга, стараются убить как можно больше народу. И всё это только лишь для того, чтобы опять вернуться домой... может быть, вернуться, может быть, если повезёт... ...к жене, к своим детям – чтобы опять любить, гулять, обедать, слушать музыку... Я не понимаю, что это меняет в мире? Почему нужно убить или ранить много-много других – здоровых, чужих, неведомых... которым до тебя и дела нет... чтобы просто продолжилось то, что было раньше? Неужели, чужая жизнь – это плата за то, чтобы длилась твоя собственная? Такая страшная, ненужная цена...
Вера (читает из дневника, эхом). «...такая страшная, ненужная цена». (Поднимает голову, Любови.) Я читала... древние ацтеки приносили в жертву людей, чтобы их кровь питала солнце... Они кормили кровью своих богов, чтобы жизнь продолжалась... Они считали, что так устроен мир. Они думали, что нельзя иначе.
Любовь. Как это... жутко... Я не знала...
Вера. Они искренне так думали. Как дети.
Любовь. Дети иногда бывают жестоки...
Вера. Да. (Читает.) «Я буду работать в госпитале. Брат меня отговаривает, ворчит: «Господи, куда тебе в госпиталь, пичужка-Софьюшка, с твоим-то птичьим здоровьем?» Он и в детстве всегда меня пичужкой называл, так и дразнил – «пичужка-Софьюшка, фью-фью!» Я почему-то страшно обижалась, до слез… Мы с ним часто ссорились, и он всегда первый мириться прибегал. И сейчас: брат против, но я всё твёрдо решила. Девочки уже большие, за Андрюшей присмотрит невестка, Ксения в нем просто души не чает, а я стану ухаживать за ранеными...» (Поднимает голову, взволнованно.) Пичужка-Софьюшка… Софья… Как странно! Мама рассказывала, что наша бабушка осталась сиротой. Её удочерил дядя. И её младшую сестру, и брата... Их отец погиб в Первую мировую. А потом умерла их мать, моя прабабушка Софья, не знаю отчего. Этот дневник... Мне вдруг подумалось...
(Читает.)
«Я хочу быть ближе к тебе, Алёша...» Алёша...
Софья. ...я хочу быть ближе к тебе, Алёша. Без тебя в этом огромном городе стало совсем пусто... (Тихо ускользает.)
Вера (читает). «Без тебя в этом огромном городе стало совсем пусто... Мне всё время кажется: вот откроется дверь – и ты сейчас войдёшь... Я даже слышу шаги...»
Шаги в коридоре.
Вера и Любовь прислушиваются.
Возвращается Криворучко. Видит женщин, на мгновение зажмуривается – свет возле буфета меркнет. Криворучко открывает глаза, какое-то время смотрит в темноту – и, с сомнением оглядываясь, идёт к дивану; садится.
Шаркая, входит Надежда, всё ещё со свечой.
Надежда. Ну вот, теперь там светло, как положено. А я-то всё – со свечкой хожу, дура старая! (Хочет задуть.)
Криворучко. Не задувайте! Со свечой лучше. Я люблю живые огоньки...
Надежда (садясь). Да, и я любила в молодости. Свечки, вино, музыка... Такой певец был – Ободзинский, знаете? Так пел... жалобно... так хорошо, до слёз... И мы танцевали... И казалось – это никогда не кончится, никогда… И впереди столько счастья... (Задумывается.)
Криворучко. А вы... вы были замужем?
Надежда. Нет. Был у меня один... Очень его любила; долго, много лет. А он женился на дочери секретаря райкома. И так, знаете, неудачно... Хотел сделать карьеру, а ничего не вышло. И жена попалась неудачная, всю жизнь потом мучился, звонил мне, жаловался... Всегда звонил – в день рожденья, в Новый год... А потом уехал за границу...
Криворучко. Да, они обычно уезжают... И вокруг становится пусто.
Надежда (продолжая). Уехал за границу – и умер там. Я бы тоже за границей умерла, чего там хорошего… (Пауза.) Ну, а я что? Я всю жизнь при семье: братья росли, сестра росла... Кошки, собаки...
Криворучко. Собаки?
Надежда. Мамаша моя очень собак любила. Щеночков, котят. А они росли, росли, много ели, в квартире пачкали. Мамаша очень сердилась. Нет бы, говорит, так маленькими всегда и оставались! (Встаёт.) Пойду я... (Идёт к дверям.)
Криворучко (вдогонку). У нас раньше был боксёр. Очень толстый. Он всё ел, ел... не мог остановиться. И каждый раз выл, когда родители слушали Шаляпина... (Задумывается.) Я думаю, он пытался петь... по-своему, по-собачьи…
Надежда медлит на пороге; потом выходит.
Звучит пластинка, ария «Не плачь дитя» из оперы А. Рубинштейна «Демон» в исполнении Ф. Шаляпина (запись 1911 г.).
Свет перемещается к буфету.
Вера (читает). «Вчера мы слушали Шаляпина. Девочки поцарапали пластинку, и она теперь чуть дребезжит... Я вспоминала нашу поездку на Валдай – помнишь? – в монастырь, к моей тётке. Девочки жили у неё, прямо в келье; купались и загорали на песчаной косе, а на них ворчала монастырская ключница. А мы с маленьким Андрюшей плавали к ним на лодке, через озеро. Вода искрилась на солнце... Какой там чудесный хлеб пекли монахини! И молоко пахло луговым клевером... Я не хочу писать об этом в письмах: там, где ты сейчас, читать об этом, наверно, нельзя. Там это неуместно. Я знаю: ты вернёшься – и прочтёшь. Или я прочту тебе сама. Мы сядем рядышком – и будем читать, и будем долго разговаривать... И ничто нам больше не помешает.»
Любовь. Как она удивительно пишет! А я так никогда никому не писала... И мне никто так не писал. Да кто теперь, вообще, друг другу пишет? Только эсэмэски щёлкают. Можно прожить целую жизнь – и ничего такого не написать никогда... и не сказать, не услышать... И даже не почувствовать... Как это странно, жалко… Почему? Это жизнь теперь стала другая, да?
Вера. Жизнь всегда другая, всегда. Мы её носим в себе, внутри... как в коробочке. Я об этом много думала: кажется, что вокруг мир, для всех одинаковый – и мы в нём, все мы – в нём. Внутри мира. А мир – он только в нас, понимаете? И в другом человеке, в том, что рядом – он какой-то иной. Другой человек видит другой мир. Похожий – но другой. И нам никогда не узнать, какой именно. Ну, это как собирать из одного и того же конструктора разные домики. На одно и то же все мы смотрим по-разному... Мы видим и слышим разное. И разное чувствуем. И поэтому никак не можем понять друг друга. У всех нас разные миры…
Любовь. Мне никогда это не приходило в голову. Подождите… Как же так… Вы хотите сказать... Совсем разные?
Вера. Да. (Улыбаясь.) Разные миры. Это – как в театре: кто смотрит на сцену, кто – по сторонам, кто просто зевает, кто – потолок разглядывает. И у всех бинокли по-своему настроены. А спектакль-то идёт... И проходит.
Любовь. Да-да, теперь я, кажется, понимаю... Как глупо, что раньше я об этом не думала! (Вере.) Как хорошо, что вы пришли, что именно сегодня пришли! Столько сразу всего произошло. Открылся этот тайничок. И у меня внутри... тоже что-то открылось. Не знаю, словами не выразить… Мне кажется: я всё-всё понимаю теперь! Всё сразу!
Вера. Всё? Я вам завидую. Всё... А я, наоборот, чем больше думаю обо всём, чем больше стараюсь понять – тем хуже это у меня получается.
Любовь. Вы шутите?
Вера. Нисколько. Вы и сами это поймётё, почувствуете. Не сейчас, позже – но почувствуете обязательно. Потом придёт другое понимание... Или непонимание... Жизнь… она точно сочится сквозь пальцы. Всё уходит – и теряется, и кажется уже не своим, чужим, отстранённым. Точно, и было это не с тобой… Я даже пыталась записывать, специальную книгу завела. Мне казалось – нужно записывать всё, что происходит: что слышишь, что думаешь, что помнишь. Что говорят другие. Что всё это важно….
Любовь. И где теперь эта книга?
Вера. Не помню. У сестры, кажется… Потом я перестала записывать. Я поняла: важно не то, что было… как было, с кем было… важно то, что это оставило в нас. Ведь от всего, что происходит вокруг нас, с нами – и не с нами тоже… от всего этого мы меняемся. Каждый из нас – и есть книга. И жизнь пишет в нас свои письмена.
Вдалеке хлопает дверь.
Это, может быть, Надежда вернулась? (Встаёт.)
Любовь. Может быть...
Вера (прислушиваясь). Нет, показалось, наверное. А может... Знаете, мне кажется, иногда, что можно услышать будущее. Если тихо, и если напрячься чуть-чуть...
Слышны шаги в коридоре.
Появляется Надежда в халате; встаёт в дверях.
Обе смотрят на неё, но она их не видит, глядит в другую сторону, на Криворучко.
Свет перемещается к дивану.
Надежда. А вы что, спать так и не ляжете?
Криворучко. Нет, не хочется.
Надежда. И мне что-то не уснуть. Да уж утро скоро, и грузчики скоро... Скоро всё кончится... (Упирается рукой в дверной косяк.) Мамаша рассказывала, когда бомбёжки были, некоторые люди вот так вставали в дверях, руками упирались, ногами. Капитальная стена могла устоять при взрыве. Люди надеялись, что так спасутся...
Криворучко. А бомбоубежища?
Надежда. Многие потом уж не ходили туда – сил никаких не было. Уже ни на что сил не было, с голодухи-то такая апатия наступает... (Пауза.) В старости, знаете, тоже мало сил остаётся. Раньше я могла весь город объездить, всё обегать, несколько очередей отстоять за дефицитом. Теперь всё есть, очередей нет... Неинтересно жить стало. В кассу, разве, очередь скопится... Так и то все сразу ворчат, избаловались. Всё есть, денег нет, здоровья нет... скучно жить...
Криворучко. А я... Я всё время работаю. Работа полностью занимает голову. Знаете, я как-то не очень понимал, что Люба ушла... То есть – что она совсем ушла, по-настоящему... Мне всё казалось, это как-то не всерьёз. Ну, как по телевизору кино смотришь, понимаете? Смотришь, переживаешь, а потом – раз! – кино кончилось. И ты ложишься спать, потом – идёшь на работу... и всё, что было в том кино, стирается из памяти... И мне казалось, что это кино скоро кончится, что я однажды вернусь с работы – а она дома, Люба. Спит в той комнате, как всегда. Всё по вечерам прислушивался здесь, у этой двери: вдруг вернулась? А ведь там даже её вещей давно уже не было... И эту дверь я сам лично заклеил обоями.
Надежда. С этой-то комнаты всё и началось. С Любы вашей. Не приди этот богатей её комнату смотреть, может, и вся квартира-то наша ему бы не понадобилась. (Вздыхает. Пауза.) Хотя – не этот, так другой бы нашёлся. Теперь этих богатеев стало... (Машет рукой.) Богаче того Рыбова... ну, что в подвале умер...
Криворучко. Я только сегодня понял, что уже ничего нельзя вернуть. Сложил вещи – и понял это. Я уеду, и больше некуда будет ей возвращаться. Понимаете? Это навсегда. Любовь ушла... И я уезжаю.
Надежда. А вы ей свой новый адрес пошлите. Вы знаете, где она теперь?
Криворучко. Нет, ничего я не знаю. Из школы уволилась, вещи к подруге на дачу вывезла, сама уехала. Я узнавал: эту комнату подруга продаёт, по доверенности...
Надежда. Да... И правда, как в кино. Значит, не хочет, чтоб вы её нашли.
Криворучко. Не хочет.
Надежда. А вы не грустите. Вы её подруге свой новый адресок оставьте.
Криворучко. Да... Об этом я не подумал...
Надежда. Ещё, знаете... я попросить хотела... На кухне там – такая полка удобная, дубовая. Марковы её брать не стали, а этому, новому... Ну, зачем она ему, старая? Выбросит... Он ведь тут евроремонт устроит, в кухне бассейн сделает и эту, как её, с пузырями, знаете? ...джакузю. Вы бы мне сняли её, а? Полку-то? Я бы её в новой квартире повесила. Хоть что-то на память об этом доме… как положено…
Криворучко. Да-да, конечно... Пойдёмте.
Выходят.
Свет возле буфета.
Вера кладёт дневник на стул, надевает плащ, нашаривает ногами шлёпанцы.
Любовь. Вы уходите, Вера?
Вера. Да, мне пора. Надежды уж не дождусь сегодня... Передавайте ей от меня привет. Может, мы с вами ещё увидимся? (Смотрит на оставленный дневник.) А эту тетрадь… можно я возьму с собой?
Любовь кивает.
Почитаю – и верну.
Любовь. Конечно. Она ведь ваша… вашей семье принадлежит.
Вера (берёт дневник). Что ж… Пойду.
Любовь. Знаете… и я уйду... Я решила.
Вера. Куда?
Любовь. Не знаю... Отсюда уйду.
Вера. Не пожалеете?
Любовь. Нет. Я словно сама себя впервые услышала. Точно долго-долго была глухая – и вдруг звук! Знаете, когда вода в уши попадёт, и звон такой в ушах, и голова ватная... и даже смешно немножко сначала. И словно стенка между тобой и всеми… какая-то невидимая... стенка тишины. А потом воду вытряхнешь... и тишина лопнет – и мир на тебя обрушится...
Вера (в дверях). У вас ведь нет детей?
Любовь. Нет... Знаете, я учительница...
Выходят.
Входят Криворучко и Надежда.
Надежда. Ну вот... Спасибо вам! Мне эта полка всегда нравилась, только ею Марковы пользовались, а Нина ни за что бы не отдала... Я её и спрашивать-то нарочно не стала: она бы тогда её из вредности бы забрала. До первой же помойки довезла бы – и выбросила, только бы по-хорошему не отдавать. (Смотрит на буфет.) А буфет? С ним-то что теперь будет, а?
Криворучко. Не знаю. Ничего. Так тут и останется.
Надежда. Жалко... Может, возьмёте его?
Криворучко. Нет, не хочу. Да его и не поднять...
Надежда. Ничего, грузчики эти всё могут, если приплатить... Ведь можно и двери снять, всё равно теперь... Не оставлять же его... Вещь-то солидная, музейная, хороших денег стоит. За такими теперь некоторые охотятся...
Криворучко. А вы не хотите?
Надежда (с сожалением). Нет, куда мне? В мою клетушку не поместится. Это ж такая махина! А там до потолка рукой дотянешься. Если с табуретки. Вы бы за него хоть денег запросили с этого богатея, как положено…
Криворучко машет рукой.
Криворучко. Да ну его! От богатея остался, богатею и достанется. Всё по кругу...
Надежда. Да уж, по кругу. Буфет – по кругу, квартира – по кругу. Вся эта жизнь – по кругу. Пойду, прилягу... Уже утро скоро... Не проспать бы, когда придут...
(Берёт со столика книгу и уходит.)
Криворучко. А я спать не буду.
(Выключает лампу, садится на диван.)
Не буду... Буду сидеть в тишине, буду ждать... Буду ждать...
(Засыпает.)
Предрассветные сумерки.
Из прошлого входят Софья и Алексей.
Софья (торопливо идёт к буфету, открывает верхнюю дверцу). Погоди, Алёша! Я тебе ещё баночку варенья хотела положить.
Алексей. Спасибо, Сонюшка! Не стоит!
Софья. Ну, тогда хоть малины сушёной возьми. Я всё боюсь – вдруг ты там простудишься? У тебя всегда такой кашель бывает...
Алексей. Я не буду болеть – даю слово!
Софья. Я не понимаю, Алёша – что это с нами? Куда ты едешь... Куда едут все. Как это всё, почему... Почему эта война... Почему, Алёша, господи?
Алексей. Ничего, бог даст – всё обойдётся.
Софья. Да-да, прости... Я всё глупости болтаю. Всё не о том. Андрюша вчера твою чашку разбил, любимую... Ту, с китайцами...
Алексей. Ничего, Сонюшка, купишь мне новую. Сама и выберешь, ладно?
Софья кивает. Алексей обнимает её.
Появляются обезличенные грузчики, действующие вне времени, начинают выносить вещи: чемоданы, коробки. Роняют медведя на пол.
Софья и Алексей их не видят.
Софья. Хорошо. Всё будет хорошо, правда? Ты вернёшься, мы сядем пить чай, будем разговаривать...
Алексей. Конечно, моя хорошая! Береги себя, береги девочек. И с Андрюшей будь построже, не разбалуй. Он и так шалит слишком много. Поживётё пока здесь, в твоём родном доме. И брат поможет, и Ксения; и тебе не будет одиноко...
Софья. Да-да, конечно. Вот уж не думала вернуться сюда… Я опять как маленькая девочка… Помнишь, в детстве – после обеда няня всегда приходила за тобой, а ты уходить не хотел…
Алексей (шутливо). Это ты не хотела, чтобы я уходил. И всегда плакала.
Софья. Ты опять уходишь, я опять плачу… Я всё время буду ждать тебя здесь. Господи, мне вдруг показалось на мгновение, что это никогда не кончится, что я никогда не уйду отсюда... Нет, ты вернёшься – и заберёшь нас, правда? Только, пожалуйста – береги себя, Алёша! Очень-очень береги!
Алексей гладит её по голове.
Алексей (смотрит на часы). Мне пора. Ни к чему тебе ехать на вокзал. Ты совсем расстроишься. Скоро дети с занятий вернутся, тебе не будет одиноко. Простимся здесь, хорошо?
Софья. Хорошо. Ты же знаешь: я ненавижу уходящие поезда...
Алексей целует её – и уходит.
Софья стоит в оцепенении.
Вдалеке хлопает входная дверь.
Алёша! Подожди… (Выбегает.)
Затишье.
В коридоре слышны быстрые шаги, шорох, шёпот, смешки; что-то падает.
Голос девочки (из коридора). Алёша! Алёша, подожди…
В комнату заглядывает и крадучись входит мальчик в матроске, с биноклем на шее и с фонарём в руке; осматривается.
За ним вбегает маленькая девочка в длинном платьице; спотыкается о медведя, поднимает его.
Мальчик прикладывает палец к губам – «Т-с-с!»; он ставит фонарь на пол, подходит к спящему Криворучко и смотрит на него в свой бинокль.
Девочка кладет медведя Криворучко на колени, берет мальчика за руку – они тихонько открывают заклеенную обоями дверь и на цыпочках выходят.
Звучит романс...
П р и л о ж е н и е .
На музыку тишины
(осенний романс)
Город, осенью полный, хмельной,
И медовый туман пеленой…
Меж тобою и мной
Только время стеной –
Только колокол дней ветряной.
Город, годы с ладоней сотри,
Говори о себе, говори:
Дней и слов янтари,
Полуснов фонари –
Волны света до хрупкой зари.
Это памяти голос простой
Льётся в звёздный колодец пустой.
Это листьев лото –
Тает лета исток…
Это колокол дней золотой.
В лужах бликами лики окон…
Долгих капель капе́ль-камертон –
Тополей перезвон,
То ли вздох, то ли стон…
Это мир, это жизнь – это сон…
Санкт-Петербург, 2006-2007 гг.
_______________________________________________________________________
• Приложения – «Семейный фотоархив» •
_______________________________________________________________________
• Страница «Черевко-Крыговы-Тинн-Зайцевы» •
• Альбом «Дом, где жила моя мама» •
_______________________________________________________________________
• Сетевые источники фотографий •
_______________________________________________________________________
Картина «Старинный буфет» (Федорова Ирина, 1994 г.)
Блокада Ленинграда. Ополчение.
Блокада Ленинграда. Разрушенный дом.
Блокада Ленинграда. Прямым попаданием.
Картина «Секрет» (Сюзева Наталья, 2011 г.).
Картина «Старинный буфет» (Вострецова Анастасия 2009 г.).
Платье начала века (Вера Холодная).
Картина «The blue cupboard» (Peter Ilsted).
Дорога жизни на Ладожском озере.
Дорога жизни на Ладожском озере.
Луна.
Дети.
• Разрешается копировать тексты только при упоминании имени автора
и обязательной ссылке на первоисточник. •
• В случае некоммерческих постановок - убедительная просьба известить автора. •
• Любое коммерческое использование текстов - только по договорённости
с автором. •
• Размещение текстов на файлообменниках запрещено •